В каком языке мира больше всего падежей?
Мировым рекордсменом по числу падежей обычно называют какой-нибудь из нахско-дагестанских языков: например, цезский или табасаранский. Точные подсчёты произвести сложно, но в табасаранском насчитывают 40–50 падежей, а в цезском — 60 или даже больше.
Эти числа могут показаться очень большими, но на самом деле всё не так страшно. В табасаранском, например, четыре основных падежа: именительный, эргативный (примерно то же, что русский творительный), родительный, дательный — и 42 пространственных. Эти 42 пространственных падежа устроены очень системно, о чём свидетельствует даже тот факт, что 42 = 7 × 6. Они подразделяются на семь серий: ‘внутри чего-либо’, ‘возле чего-либо’, ‘на чём-либо вертикальном’, ‘за чем-либо’, ‘под чем-либо’, ‘между чем-либо’, ‘на чём-либо горизонтальном’. Эти семь серий уточняются шестью типами значения: ‘в’, ‘к’, ‘от’, ‘движение совместно с’, ‘движение к’, ‘движение от’. Например, если объединить значение ‘на чём-либо вертикальном’ со значением ‘к’, получим ‘на что-либо’ (например, ‘на стену’); ‘под чем-либо’ + ‘от’ = ‘из-под чего-либо’, и так далее.
Ничего совсем уж невероятного в падежной системе табасаранского языка (да и похожего на него цезского) нет. Бо́льшую часть этих значений можно выразить и по-русски с помощью сочетания падежей и предлогов: «на стену», «из-под стены», «к стене», «вдоль стены», «за стеной» — но, действительно, по-русски мы используем отдельные словечки типа «на», «из-под» и так далее, а не окончания существительных. Известные лингвисты Бернард Комри и Мария Полински даже написали статью «The great Daghestanian case hoax», в которой развенчивают идею, что из-за большого количества падежей нахско-дагестанские языки невероятно сложны.
Источник статьи: http://yandex.ru/q/question/languages/v_kakom_iazyke_mira_bolshe_vsego_padezhei_2d7dcebb/
Падежи в языках мира
Во вьетнамском языке нет ни одного падежа, потому что вся его грамматика очень бедна на склонения и спряжения. Их там вообще нет. Есть чуть-чуть частиц, которые можно со скрипом принять за суффиксы.
В табасаранском (один из дагестанских) литературном языке 46 падежей. А в одном из диалектов — 50. Зачем так много? А просто в языках такого типа (агглютинативных) всё, что можно, выражается аффиксами (чаще всего суффиксами, но необязательно). Например, в корейском языке более 30 видов деепричастий, потому что есть деепричастия предшествующего действия, причины, условия, уступки и т.п.
Табасаранскими падежами можно выразить все значения русских предлогов: в, на, над, под, около (причём разные падежи для места и направления, направления куда-то и откуда-то) и т.п.
Примерно такая же ситуация в аварском языке, где группа «местных» падежей представляет собой пять серий по три падежа в каждой; каждая серия обозначает какое-либо пространственное отношение, а именно: I серия — положение предмета на поверхности: столалда ‘на столе’; II серия — около предмета, у предмета: васасухъ ‘у сына’; III серия — внутри предмета, в предмете: салулъ‘в песке’; IV серия — под предметом: ганчIикъ ‘под камень’; V серия — внутри полого предмета: бочкаялъуб ‘в бочке’.
Особый падеж в таких языках — эргативный. Это аналог нашего именительного в тех случаях, когда действие глагола производится над каким-то объектом. А объект выражается именительным падежом. А винительного там нет совсем. Например, в баскском: Ni irakasle naiz — «Я учитель (есть)» (Ni = «я» в именительном падеже), но Nik irakaslea ikusten dut — «Я учителя вижу» (-k — окончание эргативного падежа, потому что есть объект).
Специфических падежей много и в других языках. В японском, например, дательный падеж имеет не только значение дательного в других языках (мусумэ-ни «девушке»), но и места (дайгаку-ни — «в университете»). А есть предельный падеж (дайгаку-мадэ — «до университета»). И исходный (дайгаку-кара — «из университета»). А в корейском — совместный падеж (сонсэнъним-гва «с учителем» от вежливого сонсэнъним «учитель»). В латинском — звательный (amice! «друг!» от amicus — обычное назывательное: «друг»).
Да и в русском немного больше падежей, чем принято считать. Во-первых, остатки звательного (отче, боже). Во-вторых, остатки местных падежей (дома и домой вместо в доме и в дом). В третьих, частичный падеж (Выпить ча ю в частичном падеже в отличие от Выпить чай в винительном падеже).
Родительный падеж знаком всем. В тех языках, где он есть, он выражает чаще всего принадлежность (японское ваташи «я» и ваташи-но кабан «мой чемодан»). Но в некоторых языках нет родительного падежа, а есть изафет — особенность тюркских, иранских, венгерского и некоторых других языков, когда в группе «чьё-то нечто» особым показателем оформляется не определение (Кирилл — тетрадь Кирилла), а определяемое слово (Кирилл — дефтери Кирилл в таджикском языке, где окончание -и прибавляется не к обладателю, а к обладаемому).
А как обходятся без падежей такие языки, как китайский? Очень просто: порядок слов. В китайском Wo ai ni значит «Я тебя люблю», а Ni ai wo — «Ты любишь меня». Никаких окончаний и падежей.
Сколько падежей в разных языках мира. Какие есть падежи в российском языке
Во вьетнамском языке нет ни одного падежа, потому что вся его грамматика очень бедна на склонения и спряжения. Их там вообще нет. Есть чуть-чуть частиц, которые можно со скрипом принять за суффиксы.
В табасаранском (один из дагестанских) литературном языке 46 падежей. А в одном из диалектов — 50. Зачем так много? А просто в языках такого типа (агглютинативных) всё, что можно, выражается аффиксами (чаще всего суффиксами, но необязательно). Например, в корейском языке более 30 видов деепричастий, потому что есть деепричастия предшествующего действия, причины, условия, уступки и т.п.
Табасаранскими падежами можно выразить все значения русских предлогов: в, на, над, под, около (причём разные падежи для места и направления, направления куда-то и откуда-то) и т.п.
Примерно такая же ситуация в аварском языке, где группа «местных» падежей представляет собой пять серий по три падежа в каждой; каждая серия обозначает какое-либо пространственное отношение, а именно: I серия — положение предмета на поверхности: столалда «на столе»; II серия — около предмета, у предмета: васасухъ «у сына»; III серия — внутри предмета, в предмете: салулъ «в песке»; IV серия — под предметом: ганчIикъ «под камень»; V серия — внутри полого предмета: бочкаялъуб «в бочке».
Особый падеж в таких языках — эргативный. Это аналог нашего именительного в тех случаях, когда действие глагола производится над каким-то объектом. А объект выражается именительным падежом. А винительного там нет совсем. Например, в баскском: Ni irakasle naiz — «Я учитель (есть)» (Ni = «я» в именительном падеже), но Nik irakaslea ikusten dut — «Я учителя вижу» (-k — окончание эргативного падежа, потому что есть объект).
Специфических падежей много и в других языках. В японском, например, дательный падеж имеет не только значение дательного в других языках (мусумэ-ни «девушке»), но и места (дайгаку-ни — «в университете»). А есть предельный падеж (дайгаку-мадэ — «до университета»). И исходный (дайгаку-кара — «из университета»). А в корейском — совместный падеж (сонсэнъним-гва «с учителем» от вежливого сонсэнъним «учитель»). В латинском — звательный (amice! «друг!» от amicus — обычное назывательное: «друг»).
Да и в русском немного больше падежей, чем принято считать. Во-первых, остатки звательного (отче , боже ). Во-вторых, остатки местных падежей (дома и домой вместо в доме и в дом ). В третьих, частичный падеж (Выпить чаю в частичном падеже в отличие от Выпить чай в винительном падеже).
Родительный падеж знаком всем. В тех языках, где он есть, он выражает чаще всего принадлежность (японское ваташи «я» и ваташи-но кабан «мой чемодан»). Но в некоторых языках нет родительного падежа, а есть изафет — особенность тюркских, иранских, венгерского и некоторых других языков, когда в группе «чьё-то нечто» особым показателем оформляется не определение (Кирилл — тетрадь Кирилла ), а определяемое слово (Кирилл — дефтери Кирилл в таджикском языке, где окончание -и прибавляется не к обладателю, а к обладаемому).
А как обходятся без падежей такие языки, как китайский? Очень просто: порядок слов. В китайском Wo ai ni значит «Я тебя люблю», а Ni ai wo — «Ты любишь меня». Никаких окончаний и падежей.
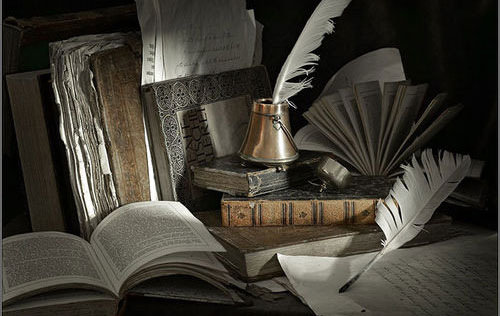
Система склонений и спряжений русского языка тоже не радует учащихся. Куда там английской или немецкой системе времен глаголов! Три рода, три склонения, три времени, три спряжения — уже одного этого достаточно, чтобы сойти с ума. А ведь есть еще виды глаголов: совершенный и несовершенный. Кто-нибудь даже из тех, для кого русский язык родной, чувствует эту межвидовую разницу? Если смотреть с этой непокоримой грамматической вершины на турецкий язык, просто зависть берет. В турецком языке нет ни родов, ни склонений.
Тех же падежей в русском языке больше, чем во всех соседних языках, исключая разве что финский, эстонский и венгерский. Целых шесть!
А сколько в русском языке исключений! Учишь любое правило и подозреваешь, что из этого правила всегда найдется несколько исключений. И ведь, в самом деле, предчувствия не обманывают! На этом фоне такие языки, как арабский и иврит, радуют своей стройностью, простотой и почти абсолютным отсутствием исключений.
Впрочем, иногда оказывается, что некоторые исключения из правил являются следствием того, что правила эти плохо или неполно сформулированы. Вот, к примеру, ученые-языковеды говорят, что в русском языке на самом деле не шесть падежей, а гораздо больше. Многие из этих падежей из грамматики исключили, чтобы облегчить ее, грамматики, изучение. В результате многие как бы несуществующие падежи проходят по разряду исключений.
Реальное количество русских падежей колеблется в зависимости от того, что считается падежами. Но если брать по максимуму, лингвисты насчитывают в русском языке 14 падежей. Что же это за падежи?
Первые 6 падежей мы все изучали в школе на уроках русского языка.
1) Именительный. Отвечает на вопросы «кто? что?»
2) Родительный. Отвечает на вопросы «кого? чего?» (Нет кого? чего?)
3) Дательный. Отвечает на вопросы «кому? чему?» (Дать кому? чему?) Определяет конечный объект действия.
4) Винительный. Отвечает на вопросы «кого? что?» (Видеть кого? что?) Обозначает непосредственный объект действия.
5) Творительный. Отвечает на вопросы «кем? чем?» (Творю кем? чем?) Определяет инструмент, и потому иногда его называют инструментальным. Кроме того этот же падеж определяет некоторые виды временной принадлежности (днем, ночью);
6) Предложный. Отвечает на вопросы «о ком? о чем?. (Думать о ком, о чём?)
Ниже перечислены те падежи, которые в школе не учат, но которые, между тем, в языке присутствуют.
7) Звательный. Употребляется при обращении к другому человеку. Этот падеж имеется в украинском языке. Помните, с чего начинается повесть Н.Гоголя «Тарас Бульба»? «А поворотись-ка, сынкУ!» Был этот падеж и в церковно-славянском языке. От него в русском осталось только несколько форм с явным церковным «привкусом»: «Боже!» «Отче!»
Но не только этими формами ограничено употребление звательного падежа в русском языке. Мы довольно часто изменяем слова при обращении к другому человеку, обрезая их окончания: Мам! Пап! Дядь Вань! Тоже вид склонения.
8) Местный падеж. Отвечает на вопросы «где? на чем? при с чем?» Обычно слова в местном падеже употребляются с предлогами «при», «на» и «в». На шкафу (а не «на шкафе»), на Украине. Кстати, и «в Украине» — тоже разрешенная форма местного падежа.
9) Разделительный падеж. Употребляется, когда из чего-то целого берется часть. Отвечает на вопрос «чего?» (взять часть чего?) Этот падеж не применяется к одушевленным предметам. В случае же его применения к неодушевленным предметам, форма слова отлична от формы родительного падежа, с которым разделительный падеж связан. Выпить чаю (не «чая»!), съесть клюквы (не «клюкву»!), задать жару, прибавить ходу.
10) Счетный падеж встречается в словосочетаниях с числительными: Два часА (не «двое часов»!), сделать четыре шагА (не «шАга»).
11) Отложительный падеж определяет начальную точку движения: из домУ (не «из дома»!), из лесУ (не «из леса»!). При этом существительное становится безударным, а ударение падает на предлог. Помните стихотворение, учили в детстве? «Я Из лесу вышел; был сильный мороз».
12) Лишительный падеж используется только в отрицательных оборотах: не хочу знать правды (не правду!).
13) Ждательный падеж является как бы промежуточным между родительным и винительный падежом. Отвечает на вопрос «ждать кого? чего?». Ждать письма (а не «письмо»), ждать наказания (а не «наказание»!), ждать у моря погоды (а не «погоду»!).
14) Включительный падеж. Этот падеж является производным от винительного. Он отвечает на вопрос «в кого? во что?». Обычно употребляется там, где подразумевается присоединение к какой-либо группе: я бы в летчики пошел, взять в жены, годиться в сыновья.
Как видим, появление новых падежей узаконило формы слов, которые без этого числились бы по разряду исключений. Зато таблица падежей, которую бы нам пришлось учить в школе на уроках русского языка, увеличилась больше, чем вдвое. Что лучше? Это вопрос скорее всего философский.
С другой стороны, русский язык совсем не застыл в каких-то определенных, раз и навсегда отлитых, формах. Ему есть куда развиваться. А как, каким путем, пойдет это развитие? Для того, чтобы определить это, и работают филологи.
Или Вы считаете, что они не работают?
Говорить о падежах в языках мира на самом деле очень сложно, потому что для того, чтобы о них говорить, нужно сначала понять, о чем, собственно, мы говорим, что такое падежи и каким образом мы можем, например, использовать понятие «падеж» по отношению к явлениям, которые в разных языках могут быть весьма непохожи друг на друга на первый взгляд (а иногда и не на первый). Поэтому я попробую начать с весьма сложного, а именно с того, чтобы немного поговорить о том, что такое падеж в русском языке, а потом, если останется время, скажу и о том, какие бывают падежи в других языках.
С одной стороны, со школы мы все знаем, нас учили, и мы не подвергаем это сомнению, что в русском языке есть падежи. Их как минимум шесть: именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. Нас всех учили в школе, каким образом мы можем в произвольном контексте узнать, в какой падежной форме стоит то или иное слово, например задать вопрос: «Я вижу что/кого?» И тогда мы знаем, что это слово в винительном падеже. Однако чего в школе не объясняют, так это зачем вообще нужен падеж в русском языке в частности или в каком-либо еще языке вообще. С другой стороны, какова природа падежа? Что это? Не просто для чего это нужно языку, а как эта категория устроена, как она работает?
Работает она в русском языке далеко не тривиальным образом, и эта нетривиальность отражается среди прочего даже в том, как мы называем саму категорию и ее отдельные элементы. Если мы спросим, зачем нужна, например, категория числа, то из самого слова «число», из названия «единственное число», «множественное число» в общем более или менее понятно, зачем это нужно. Единственное число обозначает один объект: «яблоко» — это одно яблоко. А «яблоки» — это много яблок, и это понятно. Опять же категория времени у глагола: настоящее, прошедшее, будущее, — это тоже вполне очевидно. В большинстве случаев, когда мы употребляем настоящее время, мы имеем в виду что-то, что имеет место сейчас, а когда мы говорим в прошедшем времени, то говорим о чем-то, что было раньше.
Что же касается падежа, то ни само название «падеж», ни названия самих отдельных падежей, например винительный, или дательный, или родительный, нам на самом деле ничего не говорят о том, что это и зачем это нужно. Если мы все-таки попытаемся понять, как эта категория в русском языке устроена, то окажется, что сама структура русского языка ставит на нашем пути целый ряд препятствий. Самое простое препятствие состоит в том, что вроде бы один и тот же падеж в русском языке у разных слов выражается по-разному. У слова «мама» дательный падеж выглядит как «маме», у слова «отец» — как «отцу», а у слова «дочь» выглядит как «дочери». Кроме того, этого еще мало, ведь в русском языке, как и в целом ряде других языков, падеж неотделим от числа, а у прилагательных еще и от рода. Мы не можем отдельно выразить значение, например, винительного падежа, или дательного, или какого-либо другого. У нас всегда одновременно с этим выражается и число. Соответственно, любая форма, та же самая форма «маме», которую я упоминал, является формой не только дательного падежа, но еще и формой единственного числа. Соответственно, в русском языке, как мы знаем, есть падежи, но при этом никакой падеж сам по себе не имеет собственного средства выражения.
Нет суффикса, окончания или какой-то другой морфемы, которая выражала бы только падеж, и больше ничего.
Кроме того, во многих случаях мы не можем вне контекста знать точно, в каком именно падеже употреблено данное слово. Если мы возьмем слово «дочери», то в контексте «книга дочери» это родительный падеж, а в контексте «книга о дочери» — предложный. При этом слово «дочери» вроде бы в обоих случаях одно и то же. Оно никак, в зависимости от того, какой падеж, не меняется. И узнать о том, что в одном случае у нас родительный падеж, а в другом — предложный, мы можем, лишь подставив в тот же самый контекст какие-то другие русские слова, у которых эти падежи различаются формально.
Падеж в русском языке — категория, которая чрезвычайно абстрактно устроена. Она, если можно так сказать, нужна грамматике для достижения каких-то целей, но эти цели весьма далеко лежат от поверхности. Зачем нам, если вдуматься, нужны эти ярлыки: родительный падеж, дательный падеж, предложный падеж и так далее? Они нам нужны для того, чтобы иметь возможность относительно простым и непротиворечивым образом описать связь между синтаксическими конструкциями, такими как предлоги и слова, которые с ними употребляются, или, скажем, переходный глагол и его дополнения, или какой-нибудь еще глагол, скажем глагол «ждать» или «восхищаться», и его дополнения, другими самыми разными синтаксическими конструкциями.
Падеж нужен для связи, с одной стороны, этих конструкций, а с другой стороны, форм слов, которые в этих конструкциях выступают. И если смотреть на эту связь исключительно с точки зрения того, какие формы конкретных слов, таких как «дочь», или «яблоко», или «стол» и так далее, выступают в тех или иных конструкциях, то окажется, что каждое слово, грубо говоря, каждая конструкция ведет себя каким-то индивидуальным образом. И падеж в грамматике русского языка — точнее, в описании грамматики русского языка — нужен как раз для того, чтобы в этот кажущийся хаос внести некую систему, чтобы мы могли утверждать, например, что предлог «о» в некоем конкретном значении управляет предложным падежом. И совершенно неважно в таком случае, как выглядит форма предложного падежа у конкретного слова, является ли она исключительной формой этого падежа или совпадает с формой какого-либо другого падежа. Нам признак падежа нужен именно для того, чтобы сформулировать каким-то экономным образом отношения между синтаксисом с одной стороны и морфологией с другой. Вся эта длинная прелюдия была нужна именно для того, чтобы показать, что падеж, по крайней мере в нашем, привычном для нас и, казалось бы, самом простом для нас языке, устроен чрезвычайно сложным образом и является, как я уже сказал, признаком весьма абстрактным.
Если же мы посмотрим на то, как устроена падежная система, как устроен падеж в других языках, то увидим, что, с одной стороны, есть языки, похожие на русский, — например, латынь, или санскрит, древнеиндийский язык, или отчасти немецкий. С другой стороны, мы можем увидеть языки, в которых аналоги русских падежей устроены совсем не так, как в русском. Ситуация, в которой падеж никогда не выражается самостоятельно, а всегда слитно с числом, представлена в языках мира не так уж и часто. Гораздо больше — по крайней мере, насколько могут судить люди, этим занимающиеся, — языков, которые устроены в этом смысле гораздо прозрачнее, в которых падеж выражается отдельными показателями, например суффиксами, ничего, кроме падежа, не выражающими. А если есть категория числа, например множественное число, то она выражается своим отдельным показателем, который к падежу не имеет никакого отношения. Таков, например, турецкий и многие другие языки, и в них падеж устроен гораздо прозрачнее и понятнее, чем в русском языке.
С другой стороны, многие языки говорят, что у них падежа нет совсем. К ним, казалось бы, относится английский, который всем людям, знающим хоть какой-нибудь иностранный язык, лучше всего известен. Но что, собственно, значит, что в языке нет падежа? Это вопрос непростой, и он как раз упирается в определение. Падежа в том смысле, в котором он есть в русском языке, в английском, конечно же, нет, потому что в английском языке нет склонения, когда одно слово, в зависимости от того синтаксического контекста, в котором оно выступает, имеет то одну форму, то другую. Тем не менее в английском языке есть предлоги. А что такое, собственно, предлоги? Что они делают? Для чего они нужны? Они на самом деле выполняют более или менее ту же самую функцию, что и падежи. Например, английский предлог to является во многих случаях аналогом, переводным эквивалентом русского дательного падежа.
Поэтому стоит задать вопрос: а правомерно ли считать, что настоящий падеж, такой, каким должен быть, — это такой, как в русском, а не, скажем, в турецком? Или, если уж говорить более широко, почему мы должны исключать из нашего рассмотрения, когда говорим о падеже вообще, о падежах в языках мира, которые могут быть устроены весьма различным образом, случаи вроде английского или, скажем, полинезийских языков, в которых, с одной стороны, аналоги падежей — это вроде как те же самые предлоги, являющиеся самостоятельными словами, а с другой стороны, в зависимости от того, является ли главное слово, скажем существительное, именем собственным или именем нарицательным, в одном и том же контексте выбирается разный предлог? То есть полинезийские языки в некотором смысле по одному параметру похожи на английский, а по другому — на русский. И соответственно, если мы хотим сравнивать падежи в разных языках мира, то мы, вероятно, должны рассматривать и один случай, и другой, и третий и больше внимания уделять не тому, как то, что мы хотим или не хотим называть падежом, выражается формально, а тому, какие функции эти категории выполняют в конкретных языках.
Склонение имён существительных
Склонение — это изменение имён существительных (и других именных частей речи) по падежам и числам .
Источник статьи: http://uformat.ru/part-of-speech/how-many-cases-in-different-languages-of-the-world-what-are-the-cases-in-the-russian-language/
