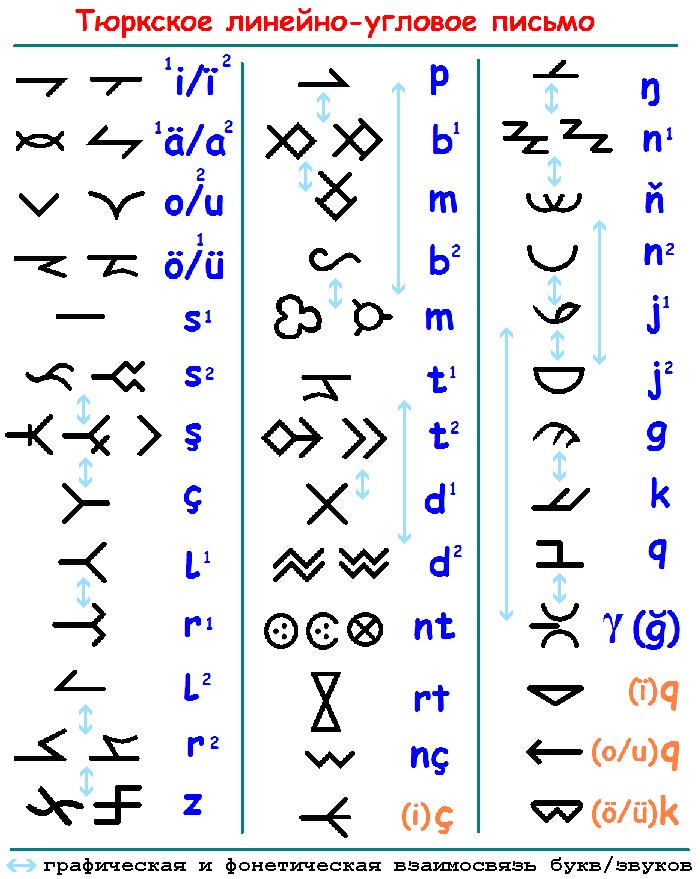Падежи с вопросами на кыргызском языке
В киргизском языке имеются 6 падежей:
| Падеж | формант | примерное значение |
| именительный | ——— | основной падеж; подлежащее в предложении, именная часть сказуемого |
| направительный | -га (-го, -ге, -гө) | куда? кому? чему? к кому? к чему? на кого? в кого? |
| местный | -да (-до, -де, -дө) | где? в ком? в чем? на ком? на чем? у кого? |
| исходный | -дан (-дон, ден, -дөн) | откуда? от кого? от чего? из чего? у кого? |
| винительный | -ны (-ну, -ни, -нү) | кого? что? |
| притяжательный | -нын ( -нун, -нин, -нүн) | чей? |
Комментарии:
1. При присоединении всех падежных окончаний необходимо учитывать ассимиляцию по глухости, а для винительного и притяжательного падежей — еще и ассимиляцию -н- после согласного. Поэтому реально употребляются не 4 формы для каждого падежного форманта, а 8 форм (4 для звонких согласных и 4 для глухих) у направительного, местного и исходного падежей и 12 форм (4 для гласных, 4 для звонких согласных и 4 для глухих) у винительного и притяжательного: балга к меду, бутка к ноге, баланы мальчика, балды мед и бутту ногу и т.д.
2. Формант винительного падежа употребляется только в тех случаях, когда прямое дополнение определено. Обычно он вызывает серьезные затруднения у русскоязычных. Чтобы разобраться, начнем с того, что вспомним, что такое Винительный Падеж в русском языке. Винительный падеж (кого? что?) употребляется после глаголов видеть, слышать, понимать и др. — такие глаголы называются переходными.
Проблема в том, что в русском Вин. падеж почти всегда совпадает с одним из двух других — именительным или родительным:
Я вижу друга. (вин.) — Это — дом друга. (род.)
Я вижу дерево. (вин.) — Возле дома растет дерево. (им.)
Единственной группой существительных в русском, для которых винительный падеж не совпадает ни с одним другим, являются существительные женского рода на -а (1-е склонение, для тех, кто помнит, что это такое):
Я вижу книгу. (вин) — У меня нет книги. (род) — На столе книга. (им.)
Поэтому можно пользоваться простым и надежным способом проверить, винительный ли падеж перед нами:
- Берем фразу (русскую, естественно), в которой имеется «подозрительная» форма:
- дом тети = тетин дом,
- сумка отца = отцова (отцовская) сумка,
- книга Нины = Нинина книга
В огороде росли разные овощи.
Она с нетерпением ждала утра.
У тебя случайно нет карандаша?
Вместо «подозрительного слова подставляем слово КНИГА (или любое другое слово 1-го склонения), обязательно в единственном числе:
В огороде росла разная книга.
Она с нетерпением ждала книгу.
У тебя случайно нет книги?
В наших примерах это, очевидно, только предложение 2.
Однако существует еще одно ограничение: в киргизском винительный падеж употребляется только если прямое дополнение определено (т.е. о нем уже говорилось и известно и говорящему, и слушающему, или оно является именем собственным — то, что пишется с Заглавной буквы). Если прямое дополнение не определено, вместо винительного падежа употребляется именительный.
топ бер дай (какой-нибудь) мяч — топту бер дай (вот этот) мяч.
3. Киргизский притяжательный падеж практически эквивалентен русскому родительному. Но, как было сказано выше, в русском языке родительный падеж часто совпадает с винительным, поэтому многие русскоговорящие путают эти два падежа. В киргизском употребление притяжательного падежа вместо винительного или наоборот является грубой ошибкой. Чтобы ее избежать, можно использовать следующий способ:
В русском существует особый тип прилагательных — притяжательные прилагательные (они отвечают на вопрос чей?): соседский, теткин, домашний. Фокус в том, что эти прилагательные вполне могут употребляться вместо родительного падежа в притяжательной функции:
Теперь, если где-то в предложении вам попадается сомнительная форма, попробуйте произвести замену на конструкцию типа «кошкин дом» (т.е. конструкцию с притяжательным прилагательным). Если получится, то в параллельном киргизском предложении перед вами притяжательный падеж, если нет — винительный или какая-то особая форма с предлогом. Например:
Я живу в квартире брата.
Заменяем на притяжательные конструкции:
Я живу в братовой (братниной) квартире. — нормально.
**Мы увидели соседского. — какая-то ерунда. Предложение стало совершенно другим, к тому же оно как-то незаконченно.
У нас ихние (плевать, что это просторечная форма, не принятая в литературном языке) вещи. — тоже нормально.
Таким образом, в первом и третьем предложениях мы имеем дело с притяжательным падежом, а во втором — нет (с винительным). Значит, по-киргизски три эти слова будут звучать следующим образом:
Источник статьи: http://tamgasoft.kg/kyrgyz/ru/padej
Имена существительные и имена прилагательные в кыргызском языке
Грамматический разряди слов кыргызского языка
Кыргызский язык представлен следующими грамматическими разрядами слов: имена существительные, прилагательные, числительные, местоимения, наречия, глаголы, междометия, подражательные слова, служебные части речи.
Как и в других тюркских языках, в кыргызском отсутствует категория рода, одушевленности-неодушевленности.
Вопросительное местоимение ким? (кто?) применяется по отношению к людям, эмне? (что?) ко всем остальным одушевленным и неодушевленным существительным.
Категория числа свойственна существительным и глаголам. Множественное число имен существительных образуется при помощи аффиксов -лар/ -дар/-тар и вариантов: китеп (книга) , китеп+тер (книги), окуучу (ученик) окуучу+лар (ученики). В сочетании с количественными числительными существительные ее оформляются аффиксами множественного числа: он китеп (десять книг), отуз окуучу (тридцать учеников).
Категория принадлежности выражается при помощи притяжательных аффиксов:
ны/-ды, -ты/, -ни /-ди, -ти/, -ну/ -ду, -ту/, -нү/-дү/ тү/
М.п. (Жатыш) -да /-та/, -де /-те/, -до /-то/, -дө /-тө/
И.п. (Чыгыш) -дан /-тан/, -ден/-тен/, -дон /-тон/, —дөн /-төн/
Имена прилагательные по своему значению и грамматическим категориям Ь подразделяются на качественные и относительные. Прилагательные в кыргызском языке не склоняются, не принимают аффиксов множественности. К ним не прибавляются аффиксы притяжательности. Имена прилагательные бывают производные и непроизводные.
Непроизводные состоят только из корня (жакшы — хороший, ак — белый). Производные образуются при помощи аффиксов, присоединяющихся к именам существительным -луу с вариантами (күчтүз сильный), -сүз (күчеүз — бессильный), -лык (элдик — народный)» -кы (күндүзү дневной), а также при помощи словообразовательных аффиксов, присоединяющихся к глаголам: -чаак (эринчээк — ленивый), -кыч (тапкыч- находчивый) й др. Сложные прилагательные образуются путем словосложения: антонимичные прилагательные -узун-кыска (разного размера); соотносительные прилагательные — майда-чүйде (всякая мелочь); усилительные прилагательные — бийик-бийик (высокий-превысокий) и т.д.
Имена прилагательные имеют степени сравнения: положительная, сравнительная, превосходная, а также степень слабого проявления признака. Сравнительная степень образуется при помощи аффиксов -раак, -ыраак (чонураак -больше), превосходная степень — при помощи усилительных слов эн, өтө, ая-бай (эн, сонун — самый лучший). Наиболее распространенными аффиксами для обозначения неполноты качества являются -гыл, -гылт, -ыш, -ылжым и др. Чаще всего они используются с прилагательными цвета: кек (синий, голубой) -көгүш (голубоватый), боз (серый) — бозгулт (сероватый), сары (желтый) -саргылт, саргыч (желтоватый).
Источник статьи: http://www.open.kg/about-kyrgyzstan/population/tongue/34850-imena-suschestvitelnye-i-imena-prilagatelnye-v-kyrgyzskom-yazyke.html
КОД КЫРГЫЗОВ
Категории
Авторы
Последние статьи
Мнения
История Кыргызстана и кыргызов
Мурас
Битик. Деколонизация кыргызского языка
Мне хочется поднять вопрос о том, по какой методологии и методике изучается и преподается наш собственный кыргызский язык (заодно дать еще немного информации о нашей письменности – битик)? Кто-нибудь задумывался над тем, почему в кыргызском языке 6 падежей?
атооч – (негизги) жөндөмө
илик жөндөмө – родительный падеж;
жатыш жөндөмө – местный падеж;
барыш жөндөмө – дательный (направительный) падеж;
табыш жөндөмө – винительный падеж;
чыгыш жөндөмө – исходный падеж
Где же 6 падежей? – правильно в русском языке. А у нас сколько падежей? Семь, как у близких нам по языку қазақов или древних кыргызов, как это написано в учебниках?
Да у нас вообще нет и не должно быть падежей. Например, западная и турецкая тюркология вовсе отрицает наличие падежей в тюркских языках. То же самое можно сказать и об аффиксах, которые применяются в тех же самых западных и турецких тюркологиях («аффиксы» — это выделенные здесь черточками слоги, например, ‘манкурт-таш-тыр-ыб-ал-ган-ыбыз-дар-дан бири’ – ‘это один из тех, кого мы сделали манкуртом’). А что если вся кыргызская филология просто взяла какие-то рамки западной и русской филологии и перенесла их на свой язык? Что, если та грамматика, которую нам преподают учителя кыргызского языка, с чужой методологией не дает нам полностью понять свой собственный язык и его происхождение?
Здесь я попытаюсь дать свое видение появления и развития древнекыргызского и других тюркских языков, что, возможно, даст нам другое альтернативное видение корней своего языка. Мне не хотелось бы загружать читателя сложными терминами из языкознания или большой доказательной базой, поэтому я буду очень краток.
Суть в том, что, на мой взгляд, пока любой языковед в Кыргызской Республике не поймет принципа древнекыргызской письменности и не выучит ее, он/она не смогут понять принцип словообразования кыргызского языка и будет в рамках методологии и методики преподавания, заимствованной из чужих языков. Следовательно, нам будет преподаваться кыргызский язык в чужой упаковке, даже в кыргызских школах. Возможно, я ошибаюсь, но все же следует, наверное, задуматься об этом, что для познания собственного языка очень важно попробовать выучить наш собственный алфавит – битик, и его особенности. Дело в том, что наша алфавитная система – не совсем алфавитная, она также еще и полуслоговая (или морфемная), как например корейская, китайская (морфемная), японская и другие восточноевразийские письменные системы – то есть, идея была одна и развивалась в одном регионе. Поэтому очень важно в будущем при подготовке специалистов по кыргызскому языку, преподавать студентам кыргызской филологии также и древнекыргызское (тюркское) письмо – битик.
Возьмем, например, буквы ‘˃’ – ‘o’ или ‘у’, и ‘↓’ – ‘қ’. Дело в том, что буква ‘↓’ применяется только для букв ‘о’ и ‘у’. Из-за того, что битик – эта система, которая была полуалфавитной и полуслоговой; и буква ‘↓’ одна может читаться в четырех различных вариантах как ‘оқ’, ‘уқ’, ‘қо’, ‘қу’. Поэтому легко улавливается связь между существительным ‘қу-лак’ – ‘ухо’, и глаголом ‘уқ’- ‘слышать’. То есть в основе двух слов лежит буква ‘↓’.
Такие буквы я называю «түркүк» — опорные буквы. Между прочим, Махмуд Кашгари в своем словаре также использует только буквы, а не какие-нибудь аффиксы – отсюда и мои объяснения, опирающиеся не на авторитет известных европейских и российских языковедов, а на авторитет своего тюркского филолога, между прочим, моего земляка. И нет никаких причин, чтобы мы ему не доверяли, своему собственному земляку, родившемуся на нашем Озере. Не надо бояться авторитетов и дурной славы «непрофессионала» и представителя «лженауки». Деколонизация – это прежде всего избавление от рабского страха.
Или еще основа: ‘кө-’ → ‘көз’ – ‘глаза’, ‘көр-’ – ‘смотреть, видеть’, ‘көр’ – ‘слепой’ и т.п.
Или, например, буква ‘∫’ — ‘а/э’. С твердыми согласными она читается как ‘а’, с мягкими – как ‘э’. Тогда опять мы видим связь между существительным и глаголом: ‘эл’ – ‘рука’ → ‘эл-/ил-’ – ‘подвешивать, подхватывать’ → ‘ал-’ – ‘брать’.
Поэтому, возможно, первоначально увеличение количества самостоятельных лексических единиц шло путем изменении тональности в дуальном звукоряде гласных и согласных (широкие/узкие, твердые/мягкие, звонкие/глухие), дающее противоположное значение:
‘кэ-’ – ‘ходить’, ‘кэл’ – ‘приходи’, ‘кэт’ – ‘уходи’ → ‘қа-л’ – ‘оставаться’;
‘ич’/[‘эч’] – ‘живот’, ‘пить’, ‘кушать’ → ‘ач’- ‘голодный’, ‘изголодаться’,
‘сөз-’ – ‘говорить’ → ‘сус-’ – ‘молчать’ и т.п.
Суть выдвигаемой гипотезы состоит в том, что ‘изначальный прототюркский язык’ [в дальнейшем ‘энетүрк’], как и, возможно, любой другой язык состоял в глубокой древности из односложных слов, состоящих из кратких морфем V, CV, VC, CVC [поздняя морфема?] (V — гласный, C – согласный звуки), бывших самостоятельными лексическими (номинативными) единицами и выражавших как имена, так и глаголы. То есть, он был похож на китайский, но пошел по другому пути развития, и вместо 4 тонов у нас развивалась гармония согласных и гласных звуков разделенных на 2 категории: (а, о, у, ы) и (э, ө, ү, и) – мы попроще китайцев. Вполне возможно, что и строение предложения или применение одной из вышеуказанных категорий в прошлом определяло, чем будет слово – глаголом или существительным. Тогда о каких аффиксах может идти речь? Возможно, то, что сегодня мы называем аффиксами, когда-то были самостоятельными словами и они просто приклеивались к корневому слову – отсюда и агглютинативные языки (от лат. agglutinatio — приклеивание), к которым относят и тюркские, в их числе и кыргызский язык.
Особенности нашего алфавита позволяют предположить, что одна согласная буква может вести за собой гласную как в пре- так и в пост- позиции. То есть, например, буква ‘л’ может читаться как ‘эл’ или ‘лэ’, буква ‘т’ – как ‘эт’ и ‘тэ’, буква ‘қ’ – как ‘кы’ и ‘ық’ и т.д. и т.п.:
‘сү’ – ‘войско’ + ‘эл’ – ‘рука’ [лэ] → ‘сүлэ-’ – ‘вести [рука ведет] войско, выступать с войском’
‘йаӷы’ – ‘враг’ + ‘эт’ – ‘делать’ [t/d] → ‘йаӷыт-’ – ‘стать врагом’ (с прогрессивным сингармонизмом)
‘таӷ’ – ‘гора; горы’ + ‘қы-’ – ‘делать’ → ‘таӷық-’ – ‘уйти в горы’
Не всегда словообразование идет в форме послелога, возможен вариант и с предлогом: ‘тур-’ – ‘стоять’ → ‘о[л]-тур-’ – ‘сидеть’; ‘ал-’ – ‘брать’ → ‘с-ал-’ – ‘класть’.
Но, наверное, пока хватит на этом, не хотелось уходить в доказательную базу, которая достаточная, но довольно-таки скучная, иначе будет трудно остановиться. В любом случае хотелось бы привлечь внимание читателей АКИpress к вопросам методики изучения и преподавания кыргызского языка, базирующейся на основе чужого языкознания. Манкурт – это не человек, потерявший свой язык, манкурт – это человек, который стал мыслить категориями своих хозяев.
Для европейца нормально сравнивать что-то чужое с неким похожим элементом их собственной культуры. Отсюда и шесть падежей и аффиксы в кыргызском языке, ведь кыргызское языкознание базировалось на методологии русской и европейской филологии. Но ведь мы не европейцы, куда нам до них, поэтому было бы хорошо постепенно отходить от сравнения каких-либо вещей, исходя от собственных категорий, а не от чужих. Еще лучше будет, если мы свой язык будем изучать, исходя из собственной методологии и языкознания.
В этом отношении для нас был бы хорошим примером, к сожалению, ныне покойный комузчу Нурак Абдрахманов, который не только создал специальные ноты для комуза и кыргызской музыки, хотя все привыкли пользоваться европейской семинотной системой, но и преподавал игру на комузе по собственной методике.
Источник статьи: http://kgcode.akipress.org/unews/un_post:2154